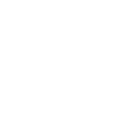До зоны у меня уже была такая жизнь, словно всё вокруг сгорело, и остался один пепел – противный серый, который в горле застревает и ничем не отмоешь. А забывать-то и нечего – память и так будто раскалённым железом выжгло.
Знаете, что самое паршивое? Я даже не помню, когда именно сломался. Не было такого, чтоб раз – и всё, конец. Нет, это было как гниение изнутри, как у трупа – снаружи вроде целый, а внутри черви копошатся. И самое гадкое – ты это чувствуешь. Каждый день что-то отмирает. И ничего не сделаешь.
Рано понял одну штуку: добро – это не круто, а слабость. Для тех, кто в шоколаде и верит в сказки про справедливость. Я видел кучу хороших людей, чуть ли не святых – и их первыми жизнь и сожрала. Не потому что старались плохо – а потому что правильно. А правильно тут не работает. Тут так: либо ты их, либо они тебя. Другого пути нет. Закон джунглей, только джунгли из бетона, а звери в форме ходят.
А это слово – «честь»! Тошнит от него. Его чаще всего говорят те, у кого её и в помине не было. Те, кто друзей за сигарету продаст или начальству зад вылижет. Честь – для тех, кто может выбирать. А когда выбора нет, когда жизнь тебя гнёт – тогда и видно, кто ты есть. Тряпка или человек. Я это понял. И мне это уж как не понравилось.
Сначала бесился. Кричал, носился, лез на рожон. Думал, если громко крикнуть, мир услышит и станет лучше. Дурак наивный. Миру пофиг. Он просто катится дальше, и ему плевать на твою злость, на твою правду. Просто давит – потихоньку, ровно, без злобы. Как каток асфальт. Раз – и ты в лепёшку.
Потом устал. Злость выжгла всё внутри, осталась только пустота. Ничем её не заполнишь. Ни бухлом, ни наркотой, ни бабами, ни работой. Пустота – как чёрная дыра: всё берёт, ничего не даёт. И там, в этой пустоте, родилась моя философия. Простая как автомат: не проси, не верь, не жди.
Не от злости – от усталости. От понимания, что мир – не место для справедливости. Это живодёрня, где выживает не самый сильный или умный, а самый пофигист. Кто не ждёт чуда. Кто не верит обещаниям. Кто не просит пощады – потому что жизнь глухая.
Видел, как умирают мечты. Не сразу – постепенно, как от радиации. Сначала человек верит, что всё будет классно. Потом надеется, что хотя бы хуже не станет. Потом просто терпит. А потом уже ничего не чувствует – просто живёт. Существует, как кусок мяса. И вот это существование без смысла, без цели, без надежды – и есть смерть. Только тело ещё не поняло, всё дёргается.
С тех пор я всё держал в себе – чувства, мысли, даже боль. Закрыл на замок и ключ выкинул. Научился ходить с каменной мордой, будто душа в отпуске. Потому что чувства – это дорого, не каждый в Зоне осилит. Они делают тебя слабым. Заставляют надеяться. А надежда тут – яд. Лучше сгнить быстрее, чем с надеждой.
Я видел, как гибнут те, кто любит. Как они цепляются за людей, за прошлое, за обещания я вернусь. Как им больно, когда их бросают. А их всегда бросают – вопрос времени и цены. Потому что люди выбирают себя. Это нормально. Это в природе – спасать свою шкуру. Просто не надо думать, что кто-то за тебя в огонь полезет.
И вот так я закрылся. Как бункер – хоть танком бей, не пробьёшь. Снаружи – маска из бетона. Внутри – пустота. Она меня и спасала. Потому что если ничего не чувствуешь, то и терять нечего. Если никому не веришь, то и предательство – как плевок. Если ни на что не надеешься, то и разочаровываться не в чем.
Глава 1. КОНЕЦ НАЧАЛА.
Моё имя было Яропол

Родился я там, где ветер не просто дует, а дерет, как зазубренное железо по оголенным нервам. Где люди смотрят в землю, будто там, под ногами, можно спрятаться от проклятья, что висит над всеми нами. Батя мой бухал и лупил мать по печени – как работу делал, без злобы. А она молчала и крестилась исподтишка, когда думала, что никто не видит. А я видел. Слишком много видел.
В военное училище я пошел не по зову души, а от безысходности. Форма, устав – казалось, это спасет от той гнили, что звалась домом. Научился держать спину ровно, смотреть прямо и не дергаться, когда старшина орет так, что слюна летит во все стороны. Еще стрелять научился – не по мишеням, а по людям. Потому что мишень не стонет и не просит пощады.
Шрам на носу – подарок от чеченца в девяносто девятом. Героизма ноль, одна тупость. Полез без прикрытия, думал, крутой. Получил как надо. Нож прошел у самого глаза – чуть не ослеп. А глаз я уже тут потерял, в Зоне. Химия, чтоб ее. Тут все химией пропитано – воздух, земля, даже слезы.
Глава 2. Зона
Зона встретила меня – сначала вроде ласково, а потом потихоньку начала убивать. Первые шаги тут – как по кладбищу, где мертвецы еще не поняли, что они мертвые.
Воздух – дрянь. Не дышишь, а жрешь его, будто стекло глотаешь. Каждый вдох – как маленькая смерть. А мой глаз… Горел так, будто туда раскаленную кочергу засунули и крутят. Из щелей в асфальте и луж поднимается что-то. Будто концентрированная ненависть земли к людям.
На третий день от боли отключился. Очнулся в своей блевотине, а надо мной воронье кружит. Не простое – зонное. Глаза как у чертей, и каркают будто по-человечески. Или померещилось? Тут фиг поймешь.
Заброшенный медпункт случайно нашел. Хотел, чтобы переждать выброс, а нашел там спасение и проклятье в одном. Морфий. Ампулы лежали в ящике железном как сокровище. Первый раз укололся не ради наслаждения, а от боли. В глазу так пекло, что хотелось его ложкой выковырять и выкинуть к черту.
И вот – тишина. Долгожданная тишина. Боль, конечно, не ушла, просто отодвинулась, словно гость незваный, которого попросили в коридоре подождать. Тело обмякло, мысли тягучие как мед. Впервые за долгое время почувствовал, что живой.
Дурак я был. Как школьник перед первой дракой.
Глава 3. Лёха


Про Лёху тяжело говорить. Но надо. Пусть кто-нибудь вспомнит этого чудика, этого святого, который умел смеяться даже со смертью в обнимку.
Познакомились мы как положено – подрались. Мы с ним в лагере познакомились тогда, так я и когда отошёл, он из моей нычки тушенку спёр, а я решил ему за это и собственно надавать. Дрались честно, кулаками, без ножей. Он молодой, шустрый, а я злой. В итоге валялись в грязи, кровью плевались и ржали как придурки.
— Ты кто такой, одноглазый? — спрашивает, губу разбитую вытирая.
— Ярополк, — говорю.
— Врешь. Нет такого имени.
— Есть, если у родителей с головой не все в порядке.
Так и стали напарниками. Не друзьями – тут дружба роскошь, которую не каждый может себе позволить. А напарники – это даже важнее.
Лёха был... как маленький свет в этой тьме. Умел видеть красоту там, где другие видели только смерть. Мог долго смотреть на игру света в радиоактивной пыли или слушать, как ветер в развалинах гудит. И рассказывал так, что даже я, циник, иногда верил, что мир еще не пропал.
— Смотри, Ярик, — говорил, показывая на выжженное поле, где ничего не росло. — А тут ведь пшеница росла когда-то. Золотое море, понимаешь? И баба в платке, серпом машет, а детишки босиком бегают...
Я смотрел на эту мертвую землю и видел только смерть. А он – жизнь, которая была и, может, еще будет. Дурак.
Морфий он, конечно, не одобрял, но нотации не читал. Просто смотрел своими честными глазами, когда я доставал шприц. И в этом взгляде столько тоски, что хотелось сквозь землю провалиться. Но не хватало духу, Чтобы бросить эту заразу.
— Ты себя убиваешь, Ярик, — сказал однажды.
— Мы все себя убиваем, — ответил я. — Просто кто как.
Он замолчал. А зря. Может, если бы доставал, нудел... Может, что и изменилось бы. Но он был слишком деликатный. А тут деликатность – это почти приговор.
Глава 4. Химия
Тут каждый день – экзамен на выживание. Выучил урок – молодец, не выучил – твои кости сгноятся в какой-нибудь аномалию.
Утром проверял снарягу. Счетчик трещит, как испанка танцует – весело и опасно. Респираторы, которые от многого спасают, но не от всего. Автоматы старые, стреляют когда хотят.
Заброшенные дома – это наш хлеб. Там можно найти хабар, аптечки, патроны, еду. Но каждый дом – это капкан, готовый сожрать невнимательного мародера. Лестницы гнилые, полы химией разъедены.
А воздух… От него сдохнуть можно, Глаз режет, слезу давит. Значит, пора уходить, пока не поздно.
Морфий помогает. Не от химии, а от страха перед ней. Когда отпускает, то соображать начинаешь лучше.
В подвалах хуже всего. Там всякая гадость скапливается. Лёха через тряпку мокрую дышал, а я просто кололся и шел в тумане, ничего не чувствуя.
Иногда там, внизу, видятся всякие вещи. Тени сами движутся, стены будто дышат. Лёха говорил, что это глюки. А я не уверен. Здесь реальность с кошмаром перепутаны.
Глава 5. Смерть

Лёха из-за меня погиб. Из-за моей зависимости, из-за того, что я свою потребность в уколе поставил выше всего.
Шли мы на склад медикаментов. Другие сталкера сказали, что там спокойно. Я уже два дня без морфия, меня колбасит, глаз горит огнем.
— Давай до утра подождем, — предложил Лёха. — Ты никакой.
— Нормально, — соврал я.
И пошли. А там засада. Бандиты тоже на склад позарились. Если бы меня не ломало, мы бы их за километр услышали.
Первую очередь они по мне дали. Лёха закрыл меня собой и получил пулю в живот. Потом еще одну.
Я едва прикончил одного из бандитов. Как будто это могло Лёхе жизнь вернуть. А потом сидел рядом и слушал, как он умирает.
— Не вини себя, Ярик, — хрипел он. — Все равно… рано или поздно это случилось бы. Тут все умирают.
Он умер на рассвете. Сказал только:
— Смотри… как красиво… солнце встает…
А я смотрел на его мёртвое лицо и думал об уколе.
Глава 6. Ломка

После Лёхи я в запой ушел. Не водочный, а морфиновый. Кололся каждые четыре часа, потом чаще. Эйфории уже нет, а плоть то требует.
Когда морфий кончился, начался ад.
Ломка – это когда тело становится твоим врагом. Когда каждая клетка орет от боли, каждый нерв – проволока раскаленная, а в голове – кипяток.
Я забился в подвал и валялся там, как побитая собака. Зубы стучат, пот ручьем, но все равно мерзну.
На третий день начались глюки. Лёха приходил и смеялся. Говорил: «Допрыгался?» То злился: «Сдохни уже. Ты все равно не жилец».
Стены дышали, пол трясся.
На пятый день я начал биться башкой о стену. Чтобы отвлечься от боли, что внутри.
Десять дней. Десять дней ада. А потом что-то сломалось. Не стал лучше, просто что-то сдалось. Боль не ушла, а стала терпимой. Как хроническая болезнь.
Глава 7. Возвращение
Выполз я из подвала другим человеком. Морфий больше не хозяин, но след остался. Как шрам перед дождем ноет.
Первые шаги – как у ребенка. Все яркое, резкое, настоящее. Слишком долго я жил под наркозом.
Зона встретила, как надоевшую любовницу. Ветер всё так же лицо дерет, счетчик трещит, химией прет. Но теперь я чувствую всё без фильтров.
И, знаешь, жить можно. Больно, страшно, но можно. Человек ко всему привыкает.
Лёху я вижу иногда. Но теперь это не глюки, а воспоминания.
— Не вини себя, Ярик, — говорит он. — Я сам выбрал. Тут каждый день – выбор. И я выбрал умереть за друга. Это хорошая смерть.
Может, он и прав. Может, в этом мире хорошая смерть – это лучшее.
Глава 8. Одиночка
Теперь я один. Это тяжело. Но у одиночества есть свои плюсы. Не нужно ни за кого отвечать, никого спасать.
Зона меня многому научила. Что вынести можно больше, чем кажется. Что боль не враг, а учитель. Что смерть – это не конец.
Мой глаз так и не зажил. Реагирует на химию, болит на погоду. Но теперь это не наказание, а предупреждение. Мой личный датчик.
Иногда встречаю других сталкеров. Молодые, думают, что тут романтика. Смотрят на мой шрам и думают: «Старый хрыч». А я смотрю на них и вижу себя в молодости. И знаю, что из них двоих выживет только один, остальные сгниют.
Предупреждать бесполезно. Каждый должен пройти свой путь. Зона любит только тех, кто идет до конца.
Эпилог
Если кто-то это найдет, значит, я еще живу, продолжил жить, но иначе. Зона – метафора жизни, В ней тысячу способов, чтобы сдохнуть и ни одного способа, чтобы жить!
Но мы жили! Как умели! Может, что, сожрала химия, может, пуля достала, может, сердце отказало. В Зоне найти что-то что сложно представить не возможно, искать.
И мы искали что-то не существующее.. Искать - тоже жизнь.
Жизненная мораль морфия учит нас, что боль обманет, но боль всё равно возвращается...
Просто остановиться, значит умереть. А умирать пока неохота, даже если жить больно!

Ярополк. Зона, озеро Янтарь, запись №47.
Последнее редактирование: